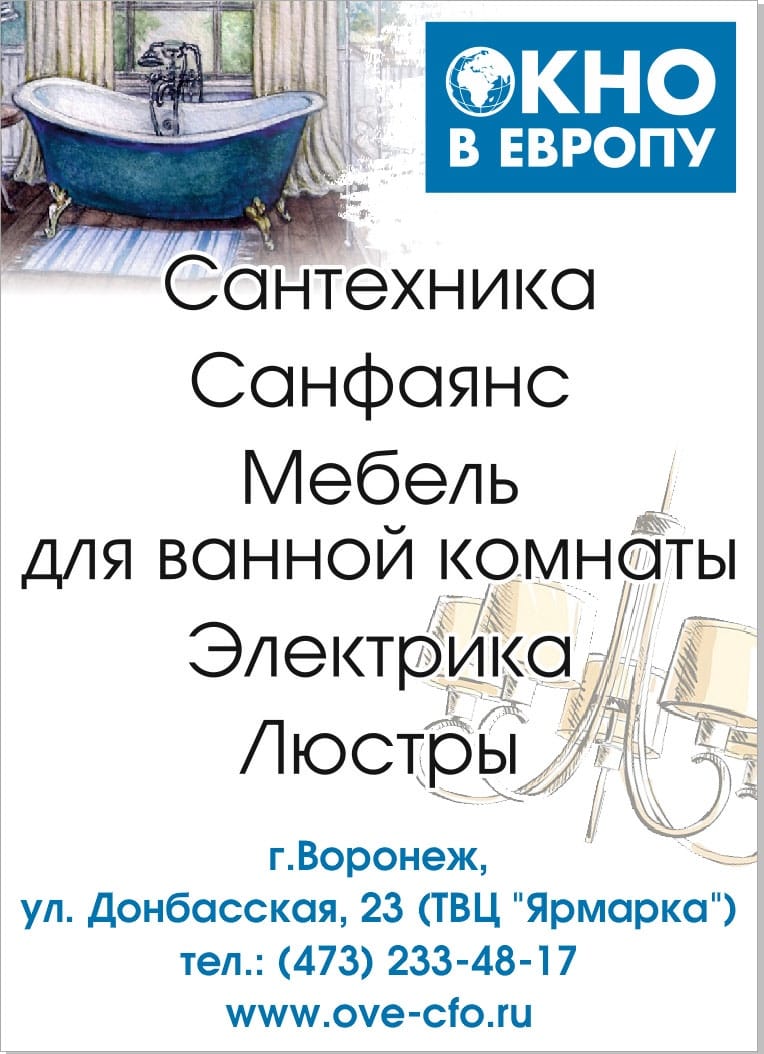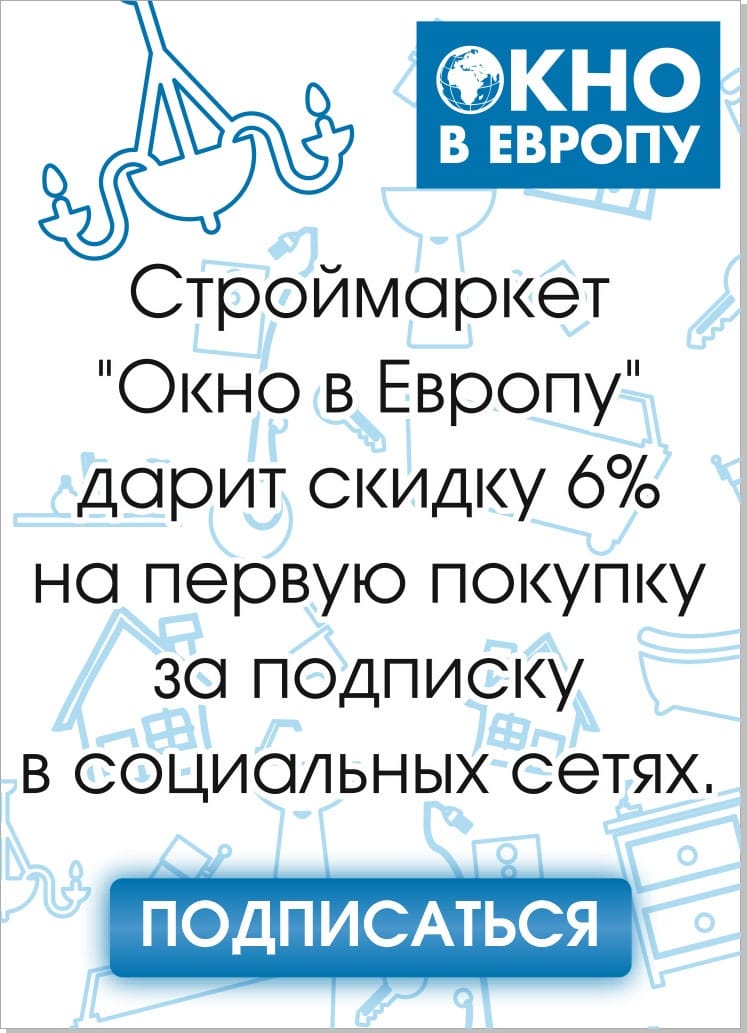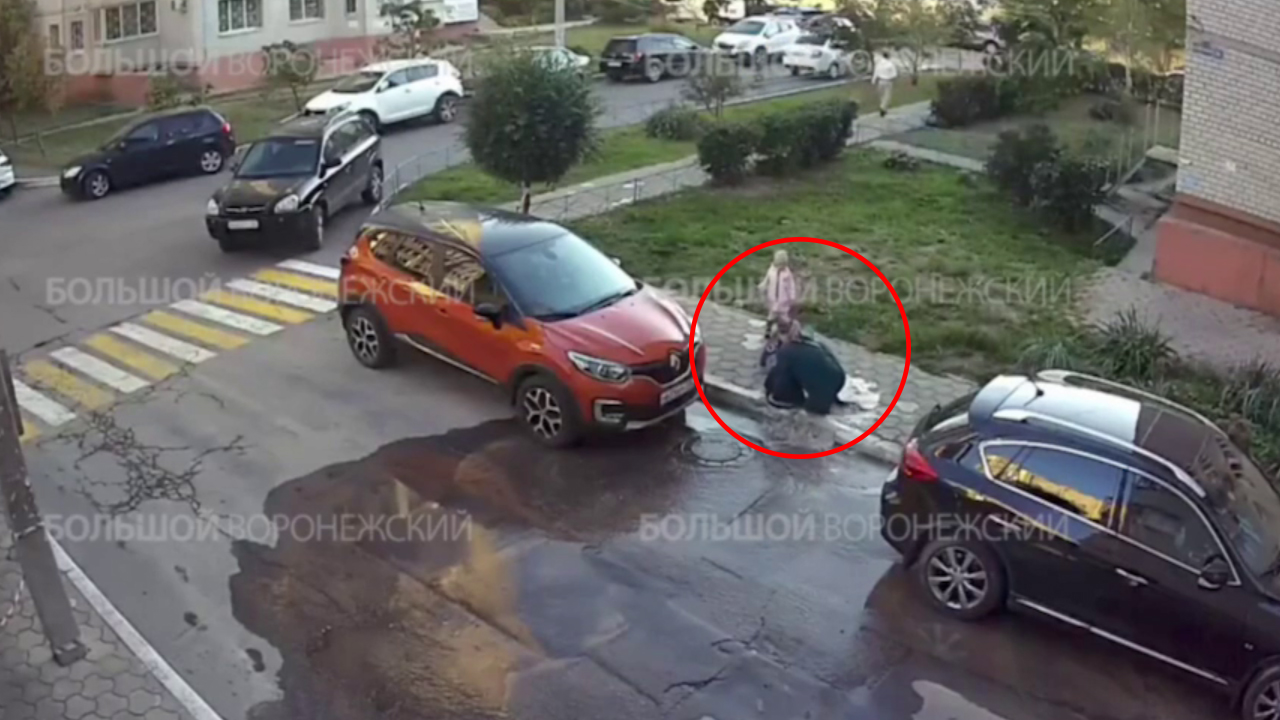Почему Московский проспект, являющийся главной транспортной артерией Северного микрорайона, в 16-17 веках называли «Ногайская сакма» или «Крымский шлях»?
После батыева погрома новую жизнь в Подонье вдохнула Москва, ставшая вслед за Владимиром центром возрождения Северо-Восточной Руси. Набирая силу и прибирая под свою руку разные земли, Москва начала обращать свой взор и на юг. Ведь в Подмосковье преобладают малоплодородные нечерноземные почвы. А на черноземах Придонья, как говорил московский люд: «плюнь – само вырастет!». И крестьяне, и дворяне жаждали поселиться на «лежащих втуне жирноземах».
Только, как на них жить, как вести хозяйство, если здесь на их дома и нивы то и дело «наскакивали» шайки степных разбойников? После покорения Руси Батый основал в южных степях государство Золотая Орда, но оно распалось. В конце 16 века самыми опасными его осколками для Москвы и Рязани были две орды. Одна – Крымская, в Крыму и около него. Другая – Ногайская, расположившаяся к северу от Кубани. Выходцев оттуда на Руси и звали ордынцами или татарами.
Они, так же, как их древние кочевые предшественники, форсировав Дон или Воронеж, продвигались между ними на север – к Москве. Поэтому нынешняя М-4 и вливающийся в нее Московский проспект получили тогда наименование Крымский или Ногайский шлях. Шляхом русские люди называли конный путь. Татары - сакмой.
С другой стороны, в те века на старинных московских «чертежах» (то есть схематических картах), южное московское порубежье обозначено, как «земли от ПОЛЬСКОЙ УКРАЙНЫ». Ибо к югу от них, «У КРАЯ» лежало сплошное «ПОЛЕ». В то же время, всего в 2-3 сотнях верст, проходила граница с Литвой, а затем и с присоединившей Литву Польшей.
Все это заставляло московских князей возрождать города-остроги, закрывавшие от степи в добатыево время Северо-Восток Руси. Так, поколение за поколением, построили «засечные черты». Сначала, в 13 веке, совсем небольшие. Затем побольше. А после присоединения к Москве в 1521 году Рязани, надо было защищать и рязанские земли.
Для этого, с конца 16 века, и создавали Белгородскую черту. Помимо собственно Белгорода в ней основали Воронеж, Землянск и другие города. В 17 веке к ним прибавились Тамбов, Изюм, Харьков.
Как создавалась «засечная черта»? Там, где сакма проходила в лесистой местности воронежско-донского «междуречья», опасные направления перекрывали «засеками». То есть подсекали по обе стороны от шляха-сакмы вековые деревья, валили их друг на друга крест-накрест по несколько слоев. Поперек степных сакм рыли глубокий ров. По обе его стороны насыпали вал. Получалось естественное укрепление, непреодолимое для лошадей – и на расчистку конного пути у степняков уходило драгоценное время, необходимое гонцам из пограничных острогов, чтобы предупредить местное население и московских воевод о набеге – так появлялся шанс если уж не упредить орду, то хотя бы перехватить ее, отягощенную полоном, на обратном пути. А набеги такие происходили примерно каждые 3 года.
Крепость Воронеж
Там, где ордынцы часто переправлялись через реки, ставили крепости. К середине 17 века протяженность Белгородской черты, вместе с Изюмской и Харьковской, достигла 800 верст! Для России тех лет – титанический труд и серьезная оборонительная система.
Воронеж, как новую крепость, возродили в 1586 г. На правый берег реки пришли стрельцы во главе с воеводой Семеном Сабуровым и стрелецкими «головами» Биркиным и Судаковым. Они возглавили постройку крепости на месте нынешнего главного корпуса ВГУ на ул. Плеханова. Судя по реконструкции, крепость была довольно типичной для тех лет. Вал, бревенчатые стены, крытые дозорные башни. К реке вел подземный ход.
Естественно, первым населением города стали «ратные люди», то есть воины. Это были стрельцы, пушкари и городовые казаки. Последние уже в середине 15 века упоминаются в рязанских летописях как пограничная стража, действующая в степи отдельными отрядами – «станицами».
Стрелецкое войско создали в 1550 году, как военную структуру нового типа. Оно получило постоянное содержание («жалованье»), одинаковые форму и оружие, более четкую организацию и в конных, и в пеших полках. От тех времен у нас в городе и сохранились такие названия улиц, как «Коннострелецкая», «Пешестрелецкая», «Пушкарская».
Пушкари, наряду со стрельцами, составляли отдельный род войск. Те и другие стали, можно сказать, настоящим регулярным войском Московского царства. Всего гарнизон Воронежа мог насчитывать до 2000 бойцов – очень прилично по тому времени. Мало какие города Московской Руси имели столько. Да и в самой Москве население составляло менее 100 тыс. человек. Да и всего в Московской Руси, по мнению историков, тогда проживало примерно 7 млн. человек.
Обеспечивать такой гарнизон всем необходимым из далекой Москвы было затруднительно. И государство, помимо жалования, выделяло воинским людям наделы. На них те держали разную живность. Чтобы кормить ее, косили сено. Это было непросто – местность-то на правом берегу реки Воронеж пересеченная. А на левом – ровная. Ратные люди подали царю челобитную с просьбой «придать» им землицы там, на ровном левобережье. Так и появилась «Придача», ныне часть Левобережного района.
В итоге к середине 17 века возникла система укреплений, эффективно защищающая рубежи от крымчаков, ногайцев и «черкас» (тогда так называли запорожцев) с «литовскими людьми». Так в Москве называли и русских, оказавшихся под властью литовских и польских магнатов. В честь победы над «черкасами» и «литовскими людьми» воронежцы основали в 1620 г. Алексиево-Акатов монастырь.
Как держали оборону? Казаки вели разведку в степи. Дозорные стрельцы на башнях озирали степь на левом берегу, где могли появиться ногайцы – их путь с Кубань-реки неизбежно пролегал по левобережью Дона. Наблюдали и правый берег, откуда ждали крымчаков или черкас.
Когда врагов наблюдалось мало, из ворот выезжали конные сотни, отгоняли их подальше в поле. Если много, город садился в осаду. Пушкари стреляли по осаждающим ядрами. В случае, если тем удавалось подступить к стенам, в дело вступали стрельцы, они вели огонь из пищалей. Иногда приходила большая орда. Тогда Воронеж просил помощи у соседних крепостей и столицы. Если разведке не удавалось выследить орду еще на подходе, гонцов могли и перехватить передовые отряды врага. В таком случае посылали голубей, и подавали сигнал дымом с башен.
Подобные сражения требовали пушек, пороха, ядер, свинца, прочих припасов. В маленькой крепости всего этого не сделаешь, поэтому уже в 15 веке в Москве и других крупных русских городах появляется их производство. Продукцию привозили в крепости по той же крымско-ногайской дороге. Так она и стала Московским трактом, потом Задонским шоссе, а в наши дни – трассой М-4-Дон. Московский проспект – составная часть этого древнего воинского пути, питавшего оборону Московского Руси на южном направлении.
- Голоса: (0%)
- Голоса: (0%)

| Всего голосов: | |
| Первый голос: | |
| Последний голос: |